«Если мы хотим предвидеть будущее, мы должны хранить избыточность;
без неё система умирает при первой неожиданности».
Уильям Росс Эшби. An Introduction to Cybernetics
«В университете важнее всего сохранить возможность задавать вопросы,
ответы на которые пока не нужны».
Джордж Стайнер. Lessons of the Masters
«То, что кажется бесполезным,
через столетия может оказаться единственно нужным».
Хосе Ортега-и-Гассет. Misión de la Universidad
В основе этого выпуска блога ректора ТГУ Эдуарда Галажинского лежит его недавний диалог с Александром Асмоловым – известным российским психологом, мыслителем, почётным доктором ТГУ, директором Школы антропологии будущего РАНХИГС и научным руководителем Академии потенциала человека СберУниверситета. Они рассуждают о том, что делает университет университетом: о праве на избыточность и свободный поиск, о продуктивном конфликте, об управлении по ценностям, а не только по метрикам, а также о том, как воспитывать способность жить и действовать в неопределённости.
– Э.Г.: Глубокоуважаемый Александр Григорьевич, рад приветствовать вас в стенах Томского Императорского университета как нашего почётного доктора! В этот раз хотелось бы поговорить с вами о месте и роли университета в культуре и в развитии общества, особенно в такие переломные эпохи, как сегодня. Известно, что университет, как институция, живёт в культуре уже более восьми столетий, проходя разные стадии и трансформации. Сегодня спорят о моделях: кто-то говорит о версии 3.0, где к двум базовым основаниям – науке и образованию – добавилась логика производства инноваций и технологий; кто-то уже называет 4.0 и 5.0. Попытки осмыслить университет как особую институцию не прекращаются. На ваш взгляд, какую роль играет университет в развитии общества, культуры и человека?

– А.А.: Эдуард Владимирович, есть вопросы, к которым подходит детская фраза: «нехилый вопрос». Ваш – из таких. Университет – это особое пространство. Когда я о нём думаю, то вижу совершенно разные подходы. При каждой попытке простроить эволюцию университета в ход идёт специфический язык: 1.0, 2.0, 3.0… и тому подобное. Это язык, пришедший из когнитивной науки и компьютерных кодов. И, пытаясь удержать преемственность, университеты охотно берут лейблы из этого дискурса. Но вместе с кодами приходит и риск. Мы не раз обсуждали это с вами. Школы Выготского и моего учителя Алексея Николаевича Леонтьева были сверхчувствительны к миру познания, к прогрессу и инновациям. Леонтьев предупреждал о риске для университетского мышления, когда оно становится заложником технологических новинок. Он бросил точную фразу: «Риск современного времени в том, что мы начинаем учиться у машин уму-разуму».
И как только мы начинаем учиться у генеративного интеллекта «уму-разуму», мы забываем, что суть университетского познания – не в технологии, которую можно немедленно применить. Оно всегда шире и глубже. При всей важности технологий университет ищет знание, к которому не подступаются с вопросом: «Ты полезное или бесполезное?» В понимании эволюции университетов для меня невероятно важно помнить об одном принципе. Он был предложен Абрахамом Флекснером, который в конце 1930-х годов собрал в Принстоне команду. Он назвал её формой развития университетов advanced study и предложил принцип «полезности бесполезного».
«Я не говорю, что всё, что происходит в лабораториях, в конечном итоге найдёт неожиданное практическое применение, или что практическое применение и есть реальное обоснование всей деятельности. Я ратую за то, чтобы упразднить слово «применение», и освободить человеческий дух. (…) Конечно, мы таким образом истратим впустую некоторое количество денег. Но что гораздо важнее, так это то, что мы избавим человеческий разум от оков, и выпустим его навстречу приключениям, которые, с одной стороны, привели Хейла, Резерфорда, Эйнштейна и их коллег на миллионы и миллионы километров вглубь самых отдаленных уголков космоса, а с другой стороны, высвободили безграничную энергию, заточенную внутри атома. То, что сделали Резерфорд, Бор, Милликен и другие ученые из чистого любопытства в попытках понять строение атома, выпустило силы, способные преобразовать жизнь человека».
Абрахам Флекснер. «Полезность бесполезных знаний», 1939
Этот парадоксальный принцип полезности бесполезного даёт другое пространство возможностей для развития университета, чем логика следования трендам моделей вроде гумбольдтовской – интеграции обучения и исследований. Сегодняшний ориентир – исследовательский университет. Недаром Томский Императорский университет мы называем поисковым университетом. А когда ищешь, неизбежно живёшь по сказочной формуле: «Пойди туда, не знаю куда, и найди то, не знаю что». И эта формула – вовсе не про растерянность, а про сложность познания.
– В этой логике, Александр Григорьевич, производство нового, не всегда прагматичного, подчас «избыточного» знания – одна из базовых функций университета. Не случайно сегодня сама модель университета вновь проблематизируется. Производство прикладного, прагматичного знания зачастую эффективнее реализуется в R&D-центрах компаний. Гиганты вроде Google или Amazon получают больше патентов и технологий, чем кто-либо иной; производят новое знание по ряду направлений, в том числе в области искусственного интеллекта, требующего ресурсов, которых у университетов просто нет. Порой в этой гонке университеты оказываются неконкурентоспособны, и это снова ставит под вопрос модель университета и его место в культуре.
Но мы уже проходили подобные периоды. Достаточно вспомнить Билла Ридингса и его книгу «Университет в руинах» о кризисе модели, поддерживающей культурную и гражданскую идентичность человека. Гумбольдтовский университет, кроме исследовательской логики, занимался ещё и «воспроизводством» граждан своей страны. Сегодня снова идёт поиск новой модели. И всё же есть нечто непреходящее помимо производства знания. Именно оно позволяет университету на протяжении восьми веков умирать, возрождаться, снова умирать и снова возрождаться в разных обликах, оставаясь сущностно непрерывным. У меня именно такое ощущение, так как сам я «университетский человек».
Сейчас активно обсуждают вопрос о том, насколько искусственный интеллект может изменить структуру научной деятельности. Недавно в правительстве России прошла стратегическая сессия по разработке моделей науки. Там спорили, изменится ли номенклатура научных позиций; должно ли знание производиться, прежде всего, «учёными-героями» или командами исследователей с распределёнными ролями, которые одновременно добывают новое знание и умеют его коммерциализировать. Содержание и форма меняются. Но что остаётся в ядре, что делает университет «бессмертным»? Потому что, на мой взгляд, разговоры о «смерти университета» сильно преувеличены.
– Каждый раз, когда говорят о «смерти», забывают, что смерть – уникальный механизм инноваций, обновления. Помните выступление Рональда Барнетта, которое он начал со слов: «Европейский университет умер», а затем добавил: «Да здравствует университет»? Фразу подхватили многие. Но давайте восстановим историю: откуда Барнетт позаимствовал её, слегка обновив и придав новое дыхание? Из известной формулы: «Король умер – да здравствует король!».
Для справки:
Рональд Барнетт – британский философ высшего образования, эмерит-профессор Института образования Университетского колледжа Лондона (UCL IOE). В 1999 году он прочитал в IOE инаугурационную лекцию «Realizing the University» о «сверхсложности» как новой среде университета, а уже в 2000 году в статье для Times Higher Education сформулировал ставшую хрестоматийной фразу: «„Университет“ умер – да здравствует университет!», позже развёрнутую в книге «Realizing the University in an Age of Supercomplexity» (2000).
Источник: https://www.ronaldbarnett.co.uk/about-me.php?utm_source=chatgpt.com
Эта фраза подводит нас к сути. Университет как генератор ментальности, как генератор картины мира, как генератор не только мировоззрения, но и мира действия. Эта функция университета, в отличие от любой специализации, крайне важна. Вспомним древний спор Сократа и Протагора. Сократ был достаточно дерзким человеком, гражданским гением, который доказывал, что его мировоззрение и истина важнее его жизни как индивида. Поэтому он согласился выпить чашу с ядом. Для него не было ничего важнее чистого знания. Протагор думал иначе. По его мнению, чистое знание настолько чистое, насколько оно технологично, эффективно и практически применимо. Если наука не становится ремеслом – зачем она? Я не случайно говорю об этих линиях. Кто их сегодня анализирует? Не только философы и историки, но и гуру менеджмента. Они подчёркивают, что метрики нужны, но они вторичны по отношению к смыслу. Важно ещё и «видеть линии» – причинно-следственные связи – на карте стратегии, чтобы KPI не подменяли картину мира.

Был человек, к которому у меня сложное отношение, но который бросил вызов модели, присущей всему сегодняшнему миру. Это Мартин Хайдеггер, написавший в 1930-е годы работу, на мой взгляд, до сих пор недооценённую. Её смысл: самый страшный идол в развитии мира – это идол эффективности. Как только мы «ложимся» под пользу, под эффективность и всюду хотим к завтрашнему дню получить эффект, мы превращаемся в спринтеров. И тем самым, та наука, которая называлась фундаментальной, то познание, которое называлось фундаментальным, перестают работать. Вы сказали очень точно: без понимания кода культуры ничего не поймёшь. Отсюда и вопрос тем, кто повторяет: «Зачем филология в университетах? Зачем культурология? Зачем культурная антропология?» Недавно одна студентка спросила меня: «А зачем изучать Фрейда, ведь он давно умер?». Но это как раз вопрос о необходимости учиться у Другого – у того, кто был до нас. Все «поколения» университета – 1.0, 2.0, 3.0 – лишь технологическая оптика, а речь – о большем. Кто-нибудь всерьёз спрашивал: «Эффективен ли Шекспир? Какова его прагматика?» Был ли «эффективен» Эразм Роттердамский? И всё же почему-то его программа развития университетов существует. «Эффективны» ли те, кто, в том числе с опорой на новые технологии, утверждает, что без библиотек нельзя? Мы сейчас с вами находимся в намоленном месте, в гениальной библиотеке Томского госуниверситета, в хранилищах памяти, где притягивает даже пыль на книгах, а почерки на полях говорят об индивидуальности мастеров.
Иными словами, университет – во много раз больше, чем краткая, пусть и сверхважная, технология. И парадокс в том, что чем больше мы совершаем открытий в области искусственного интеллекта, тем чаще забываем, что сам термин «искусственный интеллект», предложенный Гербертом Саймоном, по-русски точнее переводится как «рукотворный интеллект». Чтобы создавать уникальные миры и «натворить» искусственный интеллект, его творит разум, и этот разум не всегда был отягощён культом эффективности.
– Вспоминается анекдот: сын спрашивает: «Папа, вы пользуетесь на работе искусственным интеллектом?» – «Да мы естественным-то не всегда пользуемся». А если серьёзно, вы очень точно затронули тему сложности, «непрагматичности», избыточного знания. Университет, с одной стороны, – хранилище культуры и памяти; с другой – площадка, куда общество инвестирует ради собственного будущего.
Поясню на примере, который я часто привожу в виду его показательности. Где-то в середине 2010-х в Амстердамском университете начались студенческие волнения: молодые люди с плакатами вошли в здание ректората. Вышла возмущённая дама-ректор и сказала: «Что вы тут шумите? Вон из моего университета!». И сразу после этого началась большая дискуссия – кому всё-таки принадлежит университет? Студентам? Профессорам? Академии? Государству как ключевому стейкхолдеру, который финансирует? Родителям как «заказчикам»? Местным сообществам? Как быстро выяснилось, университет живёт сразу в нескольких социальных измерениях и точно не похож на бизнес-организацию с одной-двумя KPI.
В итоге участники обсуждения пришли к утверждению, с которым согласен и я: университет принадлежит будущим поколениям. Это и есть его культурная функция и объяснение его «продлённости» в веках. Общество выделяет ресурсы и создаёт особую среду – избыточную, интеллектуальную, технологическую, человеческую. Здесь работают особые люди, сюда приходит молодёжь. Поэтому такое внимание к студентам: мы даём им особый статус, стипендию, буквально «носим на руках». Потом они выходят «в мир», на их место приходят новые. Университет – это пространство, где молодые раскрывают потенциал и берут ответственность за будущее страны и общества. Машина воспроизводства элит, человеческого потенциала, то есть тех, кто будет отвечать за человечество. Такое понимание усиливает непрагматичную логику университета. Как вы на это смотрите?
– Вы точно передали оптику «полезности бесполезного». Вопрос «чей университет?» выводит к более общему: «кому принадлежит избыточность?» Я не против полезности, но ставлю акцент иначе и приведу две аналогии. Первая – из эволюционной биологии. Учёные говорят о поддержании разнообразия и о так называемой «мусорной ДНК». Сам термин спорный, но суть ясна: значительная часть генома – это запас, резерв на будущее. Хотите понять университет – соедините две конструкции: универсальность и избыточность. Без них система беднеет. Вторая аналогия – из медицины. «Стволовые клетки» (название тоже условное) обладают универсальной избыточностью: они способны профилироваться под задачу. Вспомню формулу великого Николая Бернштейна, создателя биомеханики и физиологии активности: «Задача рождает орган». Университет – генератор задач такого уровня, за которыми всегда стоит избыточность и моя любимая «преадаптация» – способность системы заранее иметь ресурсы для ещё не наступивших вызовов.
– Получается, что университет – это генератор людей, способных жить в логике неопределённости и брать ответственность за будущее. Спасибо за этот ход: «генерация избыточности», в том числе в людях и возможностях, делает общество устойчивым, ведь мы не знаем, что случится через 20–30 лет. Но тогда возникает вопрос: чему должен учить университет, чтобы подготовить человека к ответственному действию в будущем, которое мы не в состоянии даже вообразить? Про искусственный интеллект говорили сорок лет, но то, что он изменит жизнь так быстро и кардинально, никто и представить не мог. И всё-таки, чему мы тогда должны учить?
– Каждое время приносит свои индикаторы «чему учить». Но у меня любимый вопрос, когда мы говорим о познании, не «чему учить» и «как учить», а «ради чего учить». Как только мы задаём вопрос о смыслах университета, становится понятно, что университет – это уникальная форма подготовки к неизвестности. И избыточность – это «перпетум мобиле» университета. Но возникает дилемма: всех ли нужно учить избыточности? Некоторые считают, что это нужно только элитам. Выше вы обозначили оппозицию значимости ролей в университете: герои-лидеры или команды? Для меня иначе: могучий ректор – это лидер, который делает могучую команду и не боится, что кто-то побежит быстрее него. Главное, чтобы команда умела работать в разных направлениях и искать общие пути развития. Тогда устойчивость будет обеспечена. А если не будет избыточности и мы останемся в узкоколейке, любой вызов разрушит университет.
Университет – это генерация форм познания в условиях растущих сложности, разнообразия и неопределённости. В отличие от инженерного вуза (я обожаю инженеров и люблю их любовью брата, а может быть ещё сильнее), университет даёт универсальную избыточность, тогда как инженерный вуз – специализированную. Велик тот инженер, который обладает этой специализированной избыточностью и решает тонкие задачи как мастер.
Я бы всем, кто обсуждает эволюцию университетов, положил как Библию на стол небольшой рассказ Айзека Азимова «Профессия». В нём хорошо показано, как общество 66 века пытается отбирать людей «под будущее», используя некую готовую матрицу.
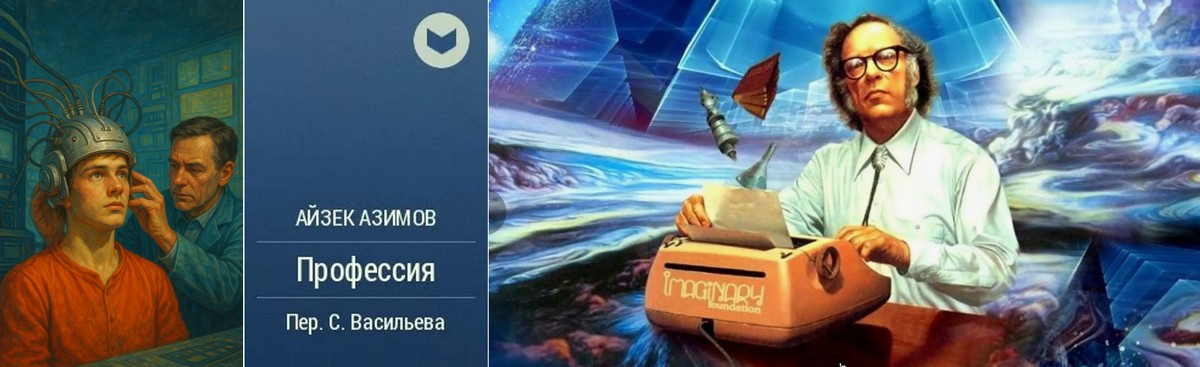
– Это была мечта технократов. Помню даже защищённую диссертацию о профориентации на шахтёрские профессии, начиная со старшей группы детского сада.
– Вот она, логика предзаданности: «ты будешь шахтёром». И таким образом мы оказываемся в мире «муравьиных» сообществ, где функция запечатана в морфологии. Университет устроен наоборот: он генератор функций, под которые затем создаётся «морфология». Это принципиально иной тип познания. В азимовской «Профессии» человека, выброшенного из технологического прогресса, приводят в библиотеку и дают странный предмет, который читали его родители. Книгу. «Кто вообще читает книги? Зачем это?» – спрашивает он. И именно здесь раскрывается важнейший смысл: книга – это не артефакт прошлого, а инструмент порождения будущих смыслов. Вы навели меня на мысль о великом Умберто Эко, написавшем книгу «Открытое произведение». Это произведение на все века: каждое поколение, читая его, открывает свои смыслы. Отсюда подлинное университетское познание – это «открытое произведение».
Для справки:
«Открытое произведение» (Умберто Эко) представляет простую и смелую идею: подлинное произведение не «закрыто» автором, а допускает несколько траекторий чтения/исполнения: зритель, читатель или музыкант со-творяет смысл заново каждый раз. Эко показывает это на современном искусстве и музыке (вплоть до вариативных партитур), а затем расширяет рамку: открытость – это правило культурного развития, где множественность интерпретаций – не хаос, а ресурс.
Источник: The Open Work
И в этом смысле ваш тезис, Эдуард Владимирович, точен: соединение избыточности и универсальности никак не убивает специализацию. Напротив, в открытой системе специализация возникает как ответ на задачу и постоянно перепрофилируется ровно потому, что у неё есть запас хода и пространство для следующего шага.
– Университет, производя сложное знание, объективно усложняет мир, так как наращивает его разнообразие. И при этом он должен учить человека жить в неопределённости, быть к ней толерантным, воспринимать её как вызов, а не как повод к унынию. Учить работать со сложностью, строить профессиональную и личностную траектории, реализовывать свой потенциал.
В связи с этим я бы выделил ещё два момента. Первый – это то, что университет формирует особый тип мышления, исследовательское мышление. Это умение работать со сложными, многомерными объектами на любом материале: чтении великих книг, математике, филологии, музыке. Университетское образование, которое нередко критикуют за «избыточность», на самом деле формирует именно это мышление – способность объять сложность и уверенно с ней работать.
Второй момент – это работа со своим потенциалом. Мы увлеклись оппозицией hard/soft skills. Профессиональные навыки важны; навыки взаимодействия в команде – тоже. Но их нельзя абсолютизировать без умения управлять собственным потенциалом. В университете мы говорим о self-компетенциях: большинство людей – «неосознанные пользователи» самих себя. Они не понимают, каким богатством и сложностью располагают. Научить человека самоопределению – осмысленному и ответственному, научить опираться на свой потенциал при выборе профессионального и жизненного пути – это одна из базовых функций университета. Её трудно упаковать в компетенции, кредиты и показатели.
– Технологический прогресс порождает не только технологии. Он порождает формы разума и язык, который делает нас заложниками новых матриц. Отсюда – мой давний спор с мыслителями из бизнеса. Герман Оскарович Греф как-то метко сказал: «Всем понятно: hard skills могут сделать любые OpenAI. Главное – не hard, а soft skills. И ещё важнее – critical thinking, self skills и так далее». Я согласен: происходит трансформация. Но ровно в этот момент стоит спросить, откуда взялись сами слова hard/soft. Как только мы начинаем говорить языком программирования, мы сужаем горизонты. Подойду к Сократу и спрошу: «Дорогой коллега, откуда ваша дерзкая формула „Я знаю, что ничего не знаю“? Это что, self skill?»
Одна из опаснейших тенденций школы и университета – «скиллизация». Скилл – это навык, автоматизированное действие. Говоря языком soft и hard skills, мы начинаем мыслить матрицами, заданными Гербертом Саймоном. А Юрий Михайлович Лотман напоминал: главная характеристика человека – работа с неизвестностью. Откуда вообще берутся удивление, воображение, эмпатия? Когда мы переводим их на язык программирования, мы обедняем ту самую универсальную избыточность, которая и готовит нас к встрече с непредсказуемыми сложностями.
– Тогда, Александр Григорьевич, ещё один важный компонент: кто должен готовить к этой встрече с неизвестностью? Речь об университетских людях. Это особый тип, и я в этом глубоко убеждён. Давно пытаются выстроить таксономию исследовательской и преподавательской деятельности. Управленцам хотелось бы «видеть в онлайне», как рождается новое знание, как оно операционализируется и коммерциализируется. Мы относимся к этому с иронией, но и всерьёз: действительно, есть профессиональные учёные с отлаженным «технологическим процессом» – публикации, прикладные результаты, высокий индекс Хирша. Однако многолетний опыт работы в университете подсказывает: суть не в этом. Университет держится на людях, которые живут логикой избыточности: следуют любопытству, воображению, служению. Они не всегда прагматичны и, увы, не всегда находят себе место. Но именно они – базовые скрепы системы, связанной с неизвестностью, будущим и сложностью.
– Я вспоминаю одного автора, пример которого учит не спешить с окончательной раскладкой по полочкам. Как только мы, вслед за Карлом Линнеем, начинаем таксономию (делим на виды, строим системы, наводим порядок), то сразу рискуем забыть, что избыточное знание – сестра «беспорядка». Великий Илья Пригожин, автор философии нестабильности, которую должен знать каждый университетский мастер, сформулировал: порядок рождается из хаоса. Если мы выметем из университетской жизни хаос – творческую неопределённость, пробу, риск, то к настоящему порядку не придём. Университету нужны не только регламенты и KPI, но и хранители «плодотворного беспорядка» – те самые люди из вашей формулы избыточности, благодаря которым будущее вообще имеет шанс состояться.
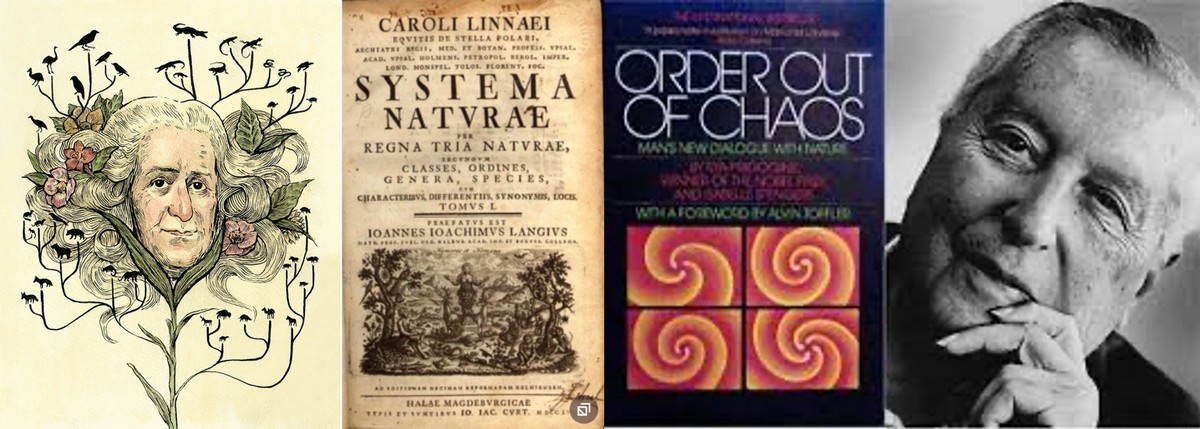
– Александр Григорьевич, вы помогли зафиксировать важную вещь. Мы – как университет – сопротивляемся тотальному «наведению порядка», хотя понимаем: без него нельзя, поскольку современная жизнь вся про эффективность вложений и измеримый результат. Но логика сплошной результативности уничтожает основания производства нового знания. В «хаосе» живут инициатива, ненормированная работа по интересу, движение за сердцем учёного.
Пример. Некоторое время назад у нас был посол Сербии. Он спросил: «У вас изучают сербский?» – «Нет», – ответил я. Посол удивился: «Как же так? Мы видели, что изучают». Оказалось, один из наших филологов занимался польской филологией, другой – сербской. Они сами набрали группы, нашли ресурсы и запустили специализации по восточнославянским языкам. Это и есть университет по существу – избыточность и инициатива снизу. С точки зрения сегодняшних регистров это выглядит как «бардак»: то сербский, то Хайдеггер. Однако университет обязан поддерживать ненормативную, над-ситуативную активность.
– Я часто вспоминаю Станиславского: набирая труппу, он задавал один вопрос – «Чем вы меня удивите?». То же и с командами развития университета: речь не про методички и план-графики, а про «пространства возможностей», которые вы откроете. Университет – генератор того, чего ещё не было. Его роль нельзя сводить к схемам и ригидным установкам, иначе он перестанет выполнять главную функцию – генерировать изменения и работать со сложностью. И прав был Фуко: даже социальные науки становятся ненужными государству, если сводятся к «фискальным» – обслуживающим учёт и запрос «как изволите».
И ещё штрих к разговору об искусственном интеллекте. Буквально этим летом психологи обсуждали закон об образовании и устройство психологической службы. Встал вопрос: а могут ли её заменить… уникальные модели искусственного интеллекта – «ассистенты», «психологи», цифровые «помощники»? Один из психотерапевтов рассказал тревожную историю. Приехали коллеги с Запада, у которых были великолепные цифровые ассистенты психологии, уникальные, в стиле разработок Альтмана. В чём опасность этой модели? Представьте: подходит человек с психотерапевтической проблемой и говорит: «У меня кризис, я даже поставил себе диагноз. Мне кажется, что у меня шизофрения». В чём суть любой генеративной модели? Она комплементарна тому, кто её создал. «Да, батенька, у вас шизофрения, не волнуйтесь, вы правильно себе поставили диагноз», – отвечает цифровой психолог. Потому что в его программе заложена толерантность к вопросу того, кто спрашивает, а не ключевая характеристика университетов – толерантность к неопределённости. Университет должен не только производить ответы, но и производить вопросы – и именно поэтому ему необходимы люди, инициативы и практики, которые не укладываются в готовые матрицы эффективности.
– Это достигается за счёт наличия конкурирующих точек зрения. По сути, ещё одна ключевая характеристика университета: он является площадкой, где проблему искусственного интеллекта можно критически разобрать с разных сторон, взвесив все социальные, экономические и политические последствия. Это уникальное место для дискуссий в отличие от некоторых других общественных и государственных институтов. Это пространство, где обязаны обсуждаться самые разные проблемы общества, включая влияние современных технологий. Именно поэтому у нас одним из первых в стране появился Центр этики ИИ; мы рано подписали этический кодекс, так как понимаем масштаб возможных последствий эволюции ИИ и свою ответственность перед обществом.
– И здесь вы ставите ещё одну важную планку: университет как пространство конкурентности. Но не антагонистической, не деструктивной, а продуктивной. Секрет в том, что продуктивный конфликт развивает систему, сохраняя её разнообразие и не позволяя порядку зацементировать мысль.
– Это очень точное замечание. Здесь действует иная культура коммуникации и уважения к другой точке зрения: даже конфликтные моменты превращаются в продуктивные стратегии. Университет – генератор новых коммуникаций, новых «языков разума», которых раньше не было. Университет должен уметь организовывать «безопасное несогласие»: правила честного спора, прозрачность аргументов, экспертиза вместо ярлыков. Там, где есть полифония и культура возражения, возникает то самое исследовательское мышление и шанс, что мы не станем заложниками очередной технологической матрицы.
– Если «перевести стрелку» на двадцать лет назад: кого искали компании, разрабатывавшие вычислительные системы? Программистов. А кого ищут сегодня? Лингвистов, поскольку именно они ведут машинное обучение. Приведу пример. Один ректор Лингвистического университета в Москве когда-то жёстко сказал мне: «Вы мешаете нам жить, продвигая направление “фундаментальная математическая лингвистика”. Мы без неё всегда обходились, обойдёмся и дальше». Но я добился (и это моя гордость), что в Московском государственном университете ввели направления «Фундаментальная лингвистика» и «Математические модели языка». Поддержали модели языка Мельчука, нарастили семантику, семиотику, психосемиотику, психосемантику, социальную лингвистику. И вот теперь именно лингвисты – «генераторы языков» – критически нужны! Я не сторонник жёсткой гипотезы Сепира – Уорфа о том, что язык определяет сознание, но «мягкая» гипотеза лингвистической относительности говорит: без множества языков университет не создаст пространство новых смыслов.
Для справки:
Гипотеза Сепира-Уорфа, или гипотеза лингвистической относительности (англ. Sapir-Whorf hypothesis) – теория, которая признаёт влияние языка на культуру и мышление человека. Разработана на основе работ двух выдающихся лингвистов: Эдварда Сепира и Бенджамина Уорфа. Также Гипотеза Сепира-Уорфа (…) утверждает, что структура и особенности языка оказывают влияние на способ восприятия и мышления человека, формируя его представления о мире и культурных нормах.
Лингвистическая относительность – ключевое понятие в области этнолингвистики, дисциплины, которая занимается изучением языка в контексте его взаимодействия с культурой. (…) В контексте лингвистики предполагается, что человеческое восприятие мира зависит от ментальных представлений человека, а ментальные представления изменяются под влиянием языковых и культурных систем. Исходя из этой концепции, каждый язык и культура сосредотачивают в себе исторический опыт и представления их носителей. В результате представления людей, говорящих на разных языках, могут различаться, так как их языковая и культурная среда формирует их специфическое восприятие действительности.
Мы сейчас в Томске, и я вспоминаю Феликса Ивановича Перегудова, которого Егор Кузьмич Лигачёв перевёл отсюда в Москву и который затем стал министром высшего образования СССР. Как-то мы собрались с ним, а также с Геннадием Яковлевичем Ягодиным, председателем Госкомитета СССР по народному образованию, и Владимиром Дмитриевичем Шадриковом, известным психологом и автором теории системогенеза деятельности и теории способностей. И вот что сказал Перегудов: «У вас нет решения? Знайте: где-то на просторах Союза обязательно живёт “доцент в рваном пиджаке”, который обязательно найдёт это решение». В университетах всегда есть «чудаки», и именно они двигают систему.
Перегудов тогда предложил простую, но мощную идею: каждую субботу собирать в Министерстве группу, которую он вместе с Ягодиным назвал «группой перспективного развития», «странными головастиками» из Московского, Ленинградского и Томского университетов. Эта группа должна была говорить о странном, но без этого не изменилось бы образование Советского Союза, а потом и России. Фактически он собрал пространство постоянного брейнсторминга, и, как в хорошей лаборатории, всегда оставлял место для одного «сумасшедшего», который предлагает неожиданные ходы. К счастью, в наших университетах таких людей хватает.
– И тогда напрашивается последний вопрос: как управлять этой сложностью? Университет – многомерная, нелинейная структура, где сходятся люди, идеи, новые знания. Как при этом добиваться эффективности? Отсюда и возникла наукометрическая логика. Помню, как Маргарет Тэтчер первой начала задавать британским университетам жёсткий вопрос: «Вы слишком комфортно живёте за государственный счёт в своей сложности и неопределённости. Что вы даёте обществу?» Так появились попытки всё измерить и сконцентрировать ресурсы в фондах.
За последние 30–40 лет нас накрыла прагматическая, наукометрическая оптика целеполагания и отчётности. Это один из способов управления. Но как управлять университетом по-настоящему? Конечно, оценка результативности нужна, нужны и измеримые показатели. Однако из-за природы самой университетской деятельности подобрать их чрезвычайно трудно.
– Для меня этот ваш вопрос – подарок. Прежде всего, университет – генератор избыточности. Он показывает, что существуют разные пространства разума. Одно из них – позитивистская методология: «наука есть там, где есть измерение». Нет формулы – нет науки. Для ряда задач это необходимая рациональность. Но есть и другие – экзистенциализм, персонализм, феноменология Гуссерля. Не случайно многие сильные университеты, в том числе скандинавские вроде Уппсалы, всё заметнее разворачиваются к генерации именно таких форм разума: прагматическая формула не исчерпывает университет.
У Маргарет Тэтчер в XII веке был «оппонент» – Фридрих Барбаросса. Король Германии, император Священной Римской империи. Он дал университетам хартию вольностей: «Придумывайте необычное, не смотрите на меня как на хозяина. Свобода нужна затем, чтобы в критическую минуту вы помогли мне увидеть ход там, где я его не вижу». Другой пример – так называемое «тёмное» средневековье, которое на самом деле было светлым, не говоря уже об эпохе Возрождения. Леонардо да Винчи, Микеланджело и другие собрались во Флоренции и вместе с Медичи создали новую модель познания. Вспомним картину «Платоновская академия», ставшую изобразительной метафорой настоящего университетского познания. Эти ребята родили универсализм. Леонардо да Винчи – универсальный человек. Гёте – политик и поэт – универсальный человек. Братья Гумбольдты – универсальные люди, университетские мастера избыточности. Поэтому, если бы госпожа Маргарет Тэтчер и Фридрих Барбаросса сели за один круглый стол короля Артура, где каждый может сказать иное мнение, то мы бы увидели подлинную управленческую модель университета.

Приведу ещё два примера управления: один из истории культурных сообществ, другой из сегодняшней «экономики метрик». Итак, первый. В 1914–1915 годах собирается одно из лучших литературных объединений России – «Серапионовы братья». Это сообщество как форма управления сложностью создало новые формы разума. Сегодня многие меряются Хирш-индексами. Но как «измерить», например, Велимира Хлебникова индексом Хирша? Умение публиковаться в Nature и Science было важным, и мы учили этому, приглашали экспертов. Однако международная конкуренция во многом задаётся тем, кто «заказывает» индексы и маркеры. А кто заказывает индексы, тот и «заказывает музыку». Если мерить всё только чужой линейкой, мы неизбежно становимся догоняющими. Значит, метрики – это инструмент, а не рулевой: они должны помогать видеть результат, но не подменять критерии смысла и долгого влияния. Второй базовый урок – от Николя Бурбаки: топологический взгляд превратил разнообразие в источник новых разделов математики. И от Уильяма Росса Эшби: закон необходимого разнообразия. Система управления должна быть не менее разнообразной, чем управляемая система, иначе её нельзя удержать.
Для справки:
Закон необходимого разнообразия (Эшби): «только разнообразие может уравновесить разнообразие». Если среда порождает много разных вызовов, система управления должна быть не менее «многообразной» по репертуару ответов. Для университета это означает не упрощать жизнь до одной линейки KPI, а сохранять полифонию школ и лабораторий, несколько карьерных треков (исследовательский, преподавательский, прикладной, предпринимательский), гибкие регламенты и «избыточность» в виде малых грантов, клубов и свободного времени на эксперимент. Практический смысл простой: метрики – навигатор, а не автопилот; конкурирующие идеи и команды – не шум, а условие устойчивости; правила – адаптивные, чтобы поддерживать разные траектории исследователей. Это и есть управление сложностью «по-Эшби»: наращивать разнообразие управления до уровня разнообразия университетской жизни.
Подробнее: Service Systems and Requisite Variety
И тот вопрос, который вы ставите, – в яблочко. Отсюда – два способа управления университетской сложностью. Первый – погасить сложность: всех назвать «клиентами», профессоров разложить по грейдам и спросить, как в «Кин-дза-дза»: «Какого цвета у вас штаны?» Всё будет работать, но развития не будет. Второй – нарастить сложность управления до уровня сложности университетской жизни: принять логику Эшби, который был не только кибернетиком, но и нейробиологом, и выстраивать гибкое, мягкое управление разнообразием. Это самая трудная, но единственно плодотворная форма управления университетом.
– Я называю это «управлением саморазвитием»: сохранить внутреннюю тенденцию роста, не разрушая самоорганизацию сложной системы. В этой оптике управлять нужно скорее по ценностям, чем по целям. Это другая логика целеполагания: люди держатся ценностных ориентиров и сами выбирают траектории движения. Мы лишь выставляем маркеры – стратегические приоритеты – и обеспечиваем их ресурсами. Дальше каждый учёный решает, куда идти. Мы никого и никуда не загоняем; мы предлагаем возможности, и система отвечает, перестраиваясь изнутри. Наша задача – создавать условия, поддерживающие развитие.
Эта логика работает и в «мелочах», которые, по сути, формируют среду. Например, инструмент малых грантов для коллективов и лабораторий. Иду сейчас по библиотеке и вижу «живую» стену из растений. Это результат конкурса малых инициатив: выдавали по 50 тысяч рублей на проекты, улучшающие университетский быт. Где-то появилась скамейка, где-то ещё одна клумба. Это может казаться непрагматичным, но это красиво, повышает качество жизни и подпитывает инициативу, а значит, и развитие.
– Вы попали точно. Ради чего всё это? Ради самой «чарующей красоты», которая мотивирует. Мы сегодня уже говорили о гуру менеджмента. Один из них – Питер Друкер. Все помнят, что он ввёл KPI и управление по целям, но мало кто помнит, что он говорил: это лишь первый уровень. Действительно, есть ещё управление по ценностям, по мотивам. Университет – уникальная форма управления по мотивам и ценностям. Это другие пути, рождающие дальний взгляд, горизонты будущего. Университет – уникальная форма именно такого управления.
Если простые модели управления – про воздействие, то университет живёт логикой содействия. Ректор, работающий только «в режиме воздействия», неизбежно упрощает систему и в критический момент проиграет. Когда заказчик скажет: «Найдите решение вне колеи», ресурса не окажется. А ректор, который культивирует среду (даёт малые гранты, выращивает «сады разнообразия»), поддерживает избыточность и тем самым удерживает способность университета рождать новое.
– «Сады разнообразия» – это очень точная метафора. Мы лишь слегка прикоснулись к сложности университетской жизни. Я глубоко признателен вам за разговор: мы все живём внутри этой сложности и понимаем ценность университета для общества. Попытки редуцировать её до простых схем опасны. Я убеждён: университет – подлинный институт развития. Но не в логике быстрых побед и прагматичных эффектов, а в стратегической перспективе, обеспечивающей связанность и образ будущего цивилизации и страны.
Спасибо за этот интеллектуальный штурм. Было удовольствием спорить и соглашаться, задавать вопросы и менять оптику. Уверен, это только начало. Если вы не возражаете, мы найдём время обсудить и другие аспекты. Это крайне важно для университетского сообщества.
– И добавлю прерванную мысль. Когда пытались понять, откуда берутся Google и Microsoft и почему им удаётся задавать новые рамки, спрашивали топ-менеджеров: чем они увлекались в 14–15 лет? Ответ повторялся: фантастикой. Они читали Брэдбери, Азимова, как мы с вами читали Стругацких, Ефремова. Не случайно коллеги в Китае вкладывают миллиарды в поддержку нового поколения писателей-фантастов: это инвестиции в воображение, чтобы конкурировать в сложном мире. Университет всегда был и остаётся «генератором фантастики».

Дорогие коллеги и студенты, поздравляю всех нас с началом нового учебного года! После разговора с Александром Григорьевичем особенно ясно: сила университета – в смелости жить в неопределённости, в праве на «избыточность» как ресурс будущего и в умении вести продуктивный спор, где ценности направляют, а метрики помогают, но не подменяют смысл. Пусть в этом году наши «сады разнообразия» цветут: призываю вас беречь разные языки мысли, подпитывать инициативы снизу, поддерживать исследовательское мышление и взаимное уважение.
Желаю каждому любопытства как профессиональной привычки, ответственности за свои решения и готовности удивлять друг друга новыми ходами. Университет – это место, где рождаются не только технологии, но и образы будущего; давайте создавать их вместе. С началом семестра и – вперёд, к сложным задачам, которые стоят того, чтобы их решать!
Ректор ТГУ Эдуард Галажинский,
член Совета по науке и образованию при Президенте РФ,
вице-президент РАО,
вице-президент Российского союза ректоров
Записала беседу и подобрала справочный материал
Ирина Кужелева-Саган
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ «СЛОВО – РЕКТОРУ»
